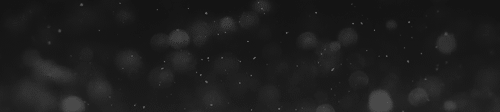♫ Panic! At The Disco • House of Memories (Slowed) ♫
Осознание возвращалось в мое едва ли живое тело отнюдь не плавно, словно это застывающий пудинг, а яростными, рваными приливами, каждый из которых приносил с собой новый пласт ощущений — острых, невыносимо ярких, как будто кто-то сорвал с моих нервов всю защитную оболочку, оставив их обнаженными и кричащими от каждого прикосновения реальности.
Первым был холод. Не внешний, от мокрой одежды, впившейся в кожу тысячами ледяных игл. Внутренний. Глубинный. Идущий из самых потаенных уголков памяти, где все еще плескалась черная вода озера и шелестели шепотом бледные губы инферналов. Он был во мне. Он стал частью меня. Как и тяжесть — свинцовая, давящая, пригвождающая к холодному, шершавому полу. Каждый мускул ныл от напряжения, от той безумной, животной борьбы за глоток воздуха, которой не должно было быть вовсе. Я ведь был готов. Я принял это. Я выбрал небытие. Почему же тело упорно сопротивлялось и пошло против моей воли?
Тело… тело отчаянно цеплялось за жизнь, и сейчас оно выло диким оборотнем от перенапряжения, помня каждую секунду той агонии. Воздух в легких все еще горел, смешиваясь с привкусом соли, пепла и чего-то горького, щелочного — послевкусием того адского зелья, что до сих пор выжигало меня изнутри. Я лежал, отплевываясь от черной жижи, и сквозь оглушительный гул в ушах, сквозь хриплый, судорожный кашель, вырывавшийся из моей собственной глотки, я услышал его голос.
— Я бы и не пришел... Меня бы там не было, если бы не…
Его голос. Тот самый, что прорвался сквозь толщу воды и тьмы, став спасительным якорем, вырвавшим меня из объятий небытия. Теперь он резал слух своей хриплой, сорванной грубостью, и от этого в груди что-то сжималось, горячее и болезненное. Абсолютно ненавистное мне.
Мои пальцы инстинктивно сжались, натыкаясь на пустоту там, где еще секунду назад лежал медальон. И тут меня накрыло новой волной — на этот раз не физической, а… экзистенциальной. Ощущение пустоты. Странной, зияющей, почти головокружительной. Все эти недели, что я носил его с собой — сначала в виде отравляющего знания, потом — физически, как фальшивку проклятого талисмана, — это давило на меня. А затем настоящий живой монстр-крестраж, впившийся в мою плоть, - подавлял что-то во мне, высасывая энергию, волю, оставляя лишь холодную, безжизненную решимость отчаяния. Он был как раскаленный уголек в моем кулаке, который я сжимал все туже, чтобы боль заглушала все остальное.
Теперь его не было. И та ярость, тот страх, та решимость — все, что он в себе заключал, исчезли. А на их месте… Возникла пустота, которую стремительно заполняло что-то иное. Что-то живое, горячее, почти яростное. Кровь снова бежала по жилам, и я чувствовал ее — каждый удар сердца отдавался громким, настойчивым стуком в висках, смывая последние остатки ледяного оцепенения. Я был жив. Черт возьми, я был жив.
И тут же слова старшего, которые я так старательно пытался перестать слышать, потонули в визгливом, пронзительном скрипе, который я узнал бы среди тысяч других звуков, — голосе, принадлежавшем единственному существу, которое видело меня настоящим и все равно оставалось преданным. Которое хваткой, более настойчивой, чем у тех же инфералов, цеплялось и рукав и чуть тянуло на себя, словно я бы мог исчезнуть.
— Господин Сириус приказал Кричеру! Кричер выполнил указ недостойного господина! Недостойный господин вправе гневаться, но достойный господин спасен!
Кричер. Он был здесь. В этом месте, которое явно не было ни нашим домом, ни каким-либо другим знакомым мне пространством. Я медленно, преодолевая сопротивление собственного тела, словно пловец, борющийся с течением, повернул голову, и мои глаза, застилаемые пеленой отторжения, наконец, начали различать окружающий мир.
— Какой еще приказ? Когда это он тебе отдавал такой приказ? — Я удивленно приподнял бровь, но на самого эльфа взглянуть был не в силах. Смутное понимание, что мы находились в неизвестном месте, когда понятия нет, чего тут можно было бы ожидать... Это сильно напрягало, даже несколько пугало. А вдруг я в штаб-квартире Ордена? Может, Кричер не понимал, куда нас аппарирует? Может, он потратил на это свои последние силы или просто не осознавал опасности?
Мы находились в какой-то гостиной. Небольшой, до абсурда тесной после просторов особняка Блэков. Воздух здесь был спертым, пахнущим пылью, старой древесиной, дешевым табаком и чем-то еще... чужим, не принадлежащим нашему миру. На стенах, лишенных обоев, виднелись следы от гвоздей и темные прямоугольники — призраки сорванных картин. У единственного окна, занавешенного темной, не первой свежести тканью, стоял потертый диван, на котором валялась брошенное наспех пальто. Повсюду — на полу, на единственном кофейном столике — были разбросаны книги, свитки, пустые бутылки из-под сливочного пива, какие-то детали от мотогонок. Это было логово. Временное, неуютное пристанище. Его пристанище. Место, куда он сбежал от всего, что когда-то было его наследием. И сейчас, оглядывая эту комнату, эту капсулу его бунтарского одиночества, я с болезненной ясностью осознал — он построил себе ту же клетку, что и я. Просто прутья у нее были другие. Цвета, материал — все иное, кроме глубинного смысла. Вот только мою клетку создали еще до моего рождения, а эту глупец слепил сам, словно спасая окружающий мир от тупости упертого гриффиндорца.
— Верно, — его ухмылка, кривая и безрадостная, резанула меня прежде, чем он продолжил. — Все верно, Кричер. И, да, Регулус, я бы не пришел, как и должен был, и ты бы умер. Драккл тебя раздери, Реджи, ты бы умер!
Реджи.
Это детское прозвище, это уменьшительно-ласкательное словечко, которое я не слышал от него с тех пор, как мы перестали быть детьми, вонзилось в меня острее любого лезвия. Оно было не уместно. Оно было оскорбительно в своей фамильярности. Оно стирало все эти годы, всю пропасть из обид, молчаливого осуждения и громких ссор, что легла между нами, сводя все к тому далекому времени, когда он был моим героем, солнцем в нашем мрачном доме, а я — его тенью, его «Реджи», вечно бегущим за ним по пятам. Тенью, которую он в итоге бросил, не оглянувшись. Еще и посмеявшись вслед.
И тут его злость, та самая, что всегда была его движущей силой, выплеснулась наружу, сметая его же усталость. Он поднялся с пола с той самой кошачьей грацией, что всегда была его отличительной чертой, даже в гневе. В следующее мгновение он уже был рядом, его тень накрыла меня, а пальцы — длинные, сильные, с белыми от напряжения костяшками — с силой, от которой мои кости затрещали, вырвали из моей ладони медальон.
— Отдай. — мой голос прозвучал тихо, но в нем не было просьбы. Это был холодный, отточенный приказ, кованное сталью воли слово, за которым стояли недели исследований, страха и решимости.
Он проигнорировал его, сжимая золотой диск в кулаке, его лицо исказила гримаса чистой, нефильтрованной ярости. На которую он, к слову, не имел никакого морального права.
— Ты слышишь меня? Ты бы умер! И не было бы ничего! Ни этого разговора, ни этой безделушки.
— Это не безделушка, — я попытался встать, опираясь на стену. Его скудный склад ума попросту не понимал масштабы, насколько опасную и темную материю, воплощенную в магию артефакта, он называл столь нелепым словом. Мокрые одежды тяжело свисали с меня, но адреналин, все еще бурлящий в крови, давал кое-какие силы. Новое, странное ощущение — ощущение жизни, вернувшейся вопреки всему, — заставляло мышцы подчиняться. — И я искренне надеюсь, что ты прекрасно это понимаешь. Иначе бы не был здесь.
— Это. Не. Стоит. Твоей. Жизни. — он чеканил слова, заглядывая мне в лицо, и его дыхание, пахнущее дымом и озоновой горечью нашего взрыва, обжигало мою кожу. — И моей тоже. Слышишь меня?
— Я слышу тебя с того самого дня, как ты ушел, Сириус! — голос сорвался, наконец прорвав ту плотину ледяного спокойствия, за которой я скрывался все эти годы. В нем [голосе] клокотала горечь, которую я годами подавлял, замораживал, запирал в самых глубоких склепах своей души. — Я слышал каждое твое громкое, показное слово о свободе! Я видел, как ты плюешь на все, что должно было иметь для тебя значение! На семью! На долг! На меня!
Я сделал шаг вперед, больше не чувствуя тяжести мокрой одежды, хотя, быть может, и не обратил внимание как мантия спала с плеч на пол, лишая увесистого груза, тем сильнее ощущалась жгучая ярость, которая вытесняла остатки страха и отречения. Это была ярость не только на него. Это была ярость и на самого себя. На свою слабость. На свою слепоту. На ту боль одиночества, что грызла меня изнутри все эти затянувшиеся годы, но не затянувшиеся шрамы.
— Ты кричишь сейчас о моей жизни? Где ты был, когда эта жизнь превращалась в цепь из ожиданий и обязательств, которые ты с таким удовольствием на меня сбросил? Ты сбежал, Сириус! Ты выбрал легкий путь — путь громких слов и показного бунта! А я остался! Я остался разгребать последствия твоего побега! Думаешь, что сделал свой выбор и показал всем и каждому, как тебе плевать на наше наследие? А на деле — лишь доказал, что ты не вырос из 10-летнего возраста, когда для тебя стало игрой — спорить с родителями, самоутверждаться за счет того, что я маленьким хвостом бегаю позади и возношу тебя выше крови, словно только ТЫ бываешь прав.
Мой взгляд упал на медальон в его руке. Золото слабо поблескивало в полумраке комнаты, и сейчас, глядя на него со стороны, я с ужасом осознавал его подлинную, чудовищную природу. Это был не просто артефакт. Это была гниющая часть души, оскверненная величайшим злодеянием. И я добровольно понес эту гниль в себе, как некую святыню, как цель.
— Вот только я нашел в себе силы не просто сбежать, а попытаться исправить то, что считал правильным! Пусть это и было ошибкой. Пусть это привело меня на край гибели. Но я действовал. А не просто болтал и убегал, праздно радуясь компании таких же безалаберных детей! Что ты можешь вообще с этим сделать? — Я слабым движением руки указал на крестраж, теряя желание видеть собственного брата, хотя совсем недавно предательское тепло и радость в груди больно перехватили дыхание.
— Я решу этот вопрос так, как сумею. А ты больше никогда не окажешься ввязан во что-то подобное. Обещай мне!
Его требование повисло в воздухе, такое же наивное и эгоцентричное, каким он был всегда. Он все еще видел во мне того маленького мальчика, которого нужно защищать от самого себя. Он не понимал. Впрочем, никто не понимал. Потому что я никогда никому не позволял заглянуть достаточно глубоко.
«Никогда не показывай всех своих карт. Даже за столом с самыми близкими союзниками. Сила — в знании, которое ты хранишь только для себя». Этот урок я выучил в восемь лет, когда подслушал разговор отца с его «доверенным» партнером. Они смеялись, пили бренди, обсуждали будущие союзы. А на следующее утро отец предоставил в Министерство компрометирующие документы, которые чуть не отправили его партнера в Азкабан. С тех пор я понял: доверие — это уязвимость. А уязвимостью всегда пользуются. Я видел, как маман использует слабости отца, чтобы добиться своего. Видел, как друзья отца льстят ему в лицо и злословят за спиной. Мир, в котором я вырос, был миром масок и кинжалов за спиной. И я научился носить самую прочную маску — маску безупречного, холодного наследника, не имеющего слабостей.
Я не ответил на его требование. Я лишь смотрел на него, чувствуя, как ярость медленно уступает место леденящей, пронзительной ясности. Он ждал обещания. Обещания, что я не причиню себе вреда. Он не понимал, что та часть меня, что была готова на самоуничтожение, уже сгорела в том озере, вытесненная взрывом нашей общей магии. Теперь во мне было нечто иное. Не отчаяние, а решимость. Холодная, безжалостная и куда более опасная.
Он рухнул рядом со мной, утянув за собой следом, его плечо коснулось моего. Его энергия иссякла, и в его голосе, когда он снова произнес это проклятое имя, прозвучала не детская мольба, а усталость взрослого человека, познавшего потерю.
— Реджи, пообещай мне... Я уже потерял вас всех однажды. И не готов пережить это еще раз.
Я отстранился. Не резко, но достаточно, чтобы разорвать этот физический контакт. Его прикосновение обжигало, и не из-за температуры, а из-за того, что оно означало. Оно будило в памяти другие прикосновения — случайные похлопывания по плечу от отца, редкие, ледяные объятия матери, товарищеские толчки от Барти. Все они были расчетливы, несли скрытый смысл, ожидание, оценку. А это… это было просто. Человечно. И от этого — невыносимо болезненно.
Я посмотрел на него — на его мокрые, всклокоченные волосы, на глубокие тени под глазами, на напряженные, уставшие линии вокруг рта. Он был измотан до предела. Он был жив. И он был здесь, в этой убогой квартире, которая так явно кричала о его разрыве с тем миром, из которого мы оба вышли. И в этот миг, глядя на него, на этого изможденного, хрипящего человека, который только что прошел через ад, чтобы вытащить меня, меня накрыло новой волной. На этот раз — не ярости, не обиды. А осознания.
Оно пришло не как озарение, а как медленный, тяжелый, давящий груз, обрушившийся на плечи. Я едва не лишил их всего. Не только его. Всех.
Я представил лицо отца, когда до него дойдет весть о моей смерти. Не показную суровость, а то, настоящее, что я видел лишь мельком, когда он думал, что никто не видит. Ту едва заметную дрожь в уголках губ, когда он смотрел на портрет деда Арктуруса. Ту тяжесть в плечах, с которой он возвращался после очередного совещания, где его мнение уже не было решающим. Мгновение тихого, безысходного горя, прежде чем маска спартанского достоинства вновь застынет на его лице. Он бы никогда не подал виду. Никогда не произнес бы мое имя вслух. Но в тишине своего кабинета, в свете одинокой свечи, он позволил бы себе опустить голову. Всего на мгновение.
Что осталось бы от него, от его гордости, от его наследия, если бы оба его сына оказались предателями — один открытым бунтарем, другой — тихим самоубийцей? Дом Блэков, выстоявший века, переживший войны и скандалы, пал бы не от рук врагов, а от рук собственных наследников. Он, Орион Блэк, человек, выстроивший всю свою жизнь как безупречную крепость, оказался бы тем, кто не смог удержать даже собственную кровь. Все его стратегии, все эти тонкие игры — все обратилось бы в прах. Он остался бы один в этом проклятом особняке с женой, чье состояние лишь усугублялось бы от потери, с портретами предков, которые смотрели бы на него с немым укором. Хранитель пустоты. Страж гробницы.
И ради чего? Ради жеста? Ради попытки — тщетной, как я теперь понимал — исправить то, что уже не исправить? Я был готов обречь его на эту участь. Готов был стать последним гвоздем в крышку его гроба. Потому что мне казалось, что мой уход — это единственный честный поступок в мире лжи. Но это была не честность. Это было бегство. Бегство, куда более подлое, чем уход Сириуса. Тот хотя бы имел смелость хлопнуть дверью на виду у всех. Я же собирался тихо исчезнуть, оставив за собой лишь вопросы и незаживающую рану.
Эта мысль обожгла меня сильнее вод озера. Сильнее зелья. Потому что сейчас, глядя на Сириуса, на его сломленную, но все еще яростную позу, я понимал — мы оба, каждый по-своему, оказались мальчишками, бьющимися в истерике, не думая о тех, кому придется разгребать последствия. Разница лишь в том, что его истерика была громкой, а моя — тихой. Но разрушала она ничуть не меньше.
Отец... Он научил меня многому. Холодной логике. Невербальной дипломатии. Искусству ждать. Но одному он научить не смог — цене жизни. Не той абстрактной «чести», что висела на фамильном гербе, а той простой, тяжелой цене дыхания, сердцебиения, возможности видеть, как свет заката ложится на позолоту рам. Цене, которую я был готов так легко отринуть. И теперь, стоя по колено в ледяной воде собственного прозрения, я впервые видел его не как монумент, а как человека. Сломленного, проигравшего, но все еще цепляющегося за те обломки, что ему оставили мы с братом.
И я едва не отнял у него последнее.
Я представил мать. Ее холодное, надменное лицо, всегда напоминавшее изваяние из самого белого мрамора. И ту едва уловимую дрожь в тонких, изящных пальцах, которую я замечал лишь дважды в жизни — когда провожала взглядом его удаляющуюся спину в тот последний вечер и когда я признался ей, что видел его на снимке Ордена. Эта дрожь была единственным признаком того, что под слоем ледяного высокомерия и фанатичной преданности чистоте крови все еще билось человеческое сердце.
Теперь дрожала бы и вторая рука. Обе эти изящные руки, всегда такие уверенные в своих жестах, теперь не смогли бы удержать даже чайную чашку, не выдав внутреннего смятения. И в ее глазах, помимо привычной суровости и разочарования, поселилось бы что-то еще — абсолютная, всепоглощающая пустота. Та пустота, что остается после того, как рушится последняя опора.
Ведь я был этой опорой. Тихим, послушным, идеальным наследником. Той самой надеждой, что не позволила ей полностью сойти с ума от материнской утраты после ухода Сириуса. Я был живым доказательством того, что ее жизнь, ее жертвы, ее преданность традициям — не напрасны. Что хотя бы один из ее сыновей оправдает ожидания, продолжит род, пронесет фамилию Блэков через все бури, вознеся ее на ту высоту, на которую она, Вальбурга Блэк, всегда считала нас достойными взойти.
А вместо этого — тишина. Еще одна пустая комната в особняке. Еще один портрет на стене, который никогда не заговорит. Еще одно имя, которое она сожжет с тем же ледяным отчаянием. Два сына. Два провала. Ее великие амбиции, ее планы, ее гордость — все обратилось бы в прах, в дым, в пепел на фамильном гобелене.
Она бы не проронила ни слезы. Не издала бы ни звука. Но с этого дня это стало бы единственной реальностью, в которой она могла бы существовать. Вероятно, она бы даже заперлась в особняке с призраками нашей семьи, с шепчущими портретами, с Кричером, чье присутствие лишь подчеркивало бы мертвенную тишину этих залов. Ее мир, и без того хрупкий, рухнул бы окончательно, похоронив под обломками последние проблески здравомыслия.
И я, ее «верный» сын, стал бы архитектором этого краха. Своим тихим, «благородным» самоубийством я нанес бы ей удар куда более страшный, чем любой бунт Сириуса. Потому что бунт — это все-таки действие, проявление воли, пусть и направленной против нее. А мой уход стал бы молчаливым приговором всему, во что она верила, всей ее жизни. Последним, оглушительным аккордом, заглушившим все остальные звуки.
Стоя там, на холодном полу квартиры Сириуса, я впервые с абсолютной, мучительной ясностью осознал: своей смертью я убил бы не только себя. Я стал бы палачом для той, что дала мне жизнь. И никакие высокие идеи, никакое стремление к искуплению не оправдали бы этого последнего, самого страшного предательства.
Я подумал о команде. О «Уимборнских Осах». О тренере Годрике, чьи проницательные глаза разглядели за аристократической холодностью не просто талант, а понимание ветра. Он вкладывал в меня время, терпел мою замкнутость, потому что верил — за ней скрыт игрок, способный на большее, чем просто техничное исполнение маневров. Представил партнеров по полю. Капитана, чьи крики во время тренировок заставляли выкладываться на пределе. Загонщика, с которым мы молча отточили связку «Обманный вираж». Все эти часы, весь пот и сбитое дыхание, все моменты молчаливого понимания, когда взгляда было достаточно, чтобы предугадать следующий ход. И вот — пустота. Незаполненное место в составе. Неловкое молчание перед тренировкой. Их недоуменные лица, шепот в раздевалках: «Блэк? Регулус Блэк? Погиб? Но как?». Они строили бы догадки — несчастный случай, темная магия, семейные разборки. Но они бы никогда не поняли сути. Для них я навсегда остался бы загадкой, странным, замкнутым аристократом, который бесследно исчез, оборвав все нити, что едва начали тянуться к другим людям. Я не просто умер бы. Я превратился бы в легенду, в предостережение, в очередной кирпич в стене, отделяющей мир Блэков от всех остальных. И самое горькое — я сам бы возвел этот кирпич.
Я подумал об Амикусе. О том, как его циничная, язвительная опека за эти четыре года стала… привычной. Почти что родственной в своем извращенном ключе. Он, с его грубыми шутками и манерами, был полной моей противоположностью. И все же за эти годы мы нашли свой способ сосуществования — в колкостях, в молчаливом наблюдении, в редкие моменты, когда его взгляд терял привычную насмешку и становился просто уставшим. Он бы фыркнул, назвал меня идиотом, выругался. Сказал бы что-то вроде: «Ну что, аристократ, нашел себе изящный способ сбежать?». Но в его глазах, тех самых, что видели больше, чем следовало, мелькнуло бы нечто большее, чем просто раздражение. Что-то вроде… досады. Почти что потери. Не той громкой, драматичной потери, что переживают нормальные люди, а тихой, ядовитой, как сам он. Потери ценного партнера.
Он, единственный, кто, возможно, догадывался о моих сомнениях. Чьи глаза порой задерживались на мне с непривычной проницательностью, когда я слишком долго молчал. И единственный, кто ничего не сделал, чтобы меня остановить. Не из равнодушия. А потому что и он, в своем искаженном мире, верил в свою идею долга. Долга перед делом, которому служил, перед собственной семьей. И, возможно, в тот извращенный кодекс чести, который запрещал мешать другому сделать его собственный, окончательный выбор.
И теперь, оставшись один, он бы продолжил свой путь. Стал бы еще более жестоким, еще более циничным. Заглушая то пустое место, что оставил бы я. Моя смерть стала бы для него не трагедией, а еще одним подтверждением жестокости этого мира. И в этом заключалась бы моя последняя, непреднамеренная жестокость по отношению к нему — человеку, который, вопреки всему, стал чем-то вроде маяка в шторме.
И я подумал о Кричере. О том, как он смотрел на меня в пещере. Не с покорностью, а с отчаянием друга. Единственного существа, которое знало меня настоящего — со всеми моими страхами, слабостями, сомнениями — и все равно считало меня «достойным господином». Что бы с ним стало? Он выполнил бы приказ. Уничтожил бы медальон. Если бы смог. А потом? Вернулся бы в особняк, к своим обязанностям, неся в себе знание о моей гибели, став вечным хранителем моего позора и моего провала.
И, по правде говоря, больше всего, острее всего, я подумал о нем. О Сириусе. Который, несмотря на все, на всю пропасть между нами, пришел. Который не побоялся нырнуть в озеро смерти. Который сжег последние остатки своей силы, чтобы вырвать меня оттуда. Я смотрел на его сгорбленную фигуру, на его опущенные плечи, и видел не бунтаря, не предателя рода, а просто… брата. Изможденного, испуганного, в отчаянии умоляющего меня не уходить.
Я едва не отнял у него это. Едва не заставил его нести на себе двойное бремя — вину за мой уход и горечь от новой, окончательной потери. Я был готов разбить его окончательно, даже не осознавая этого. Потому что был слишком поглощен своим собственным страданием, своей собственной «великой» жертвой. В горле встал ком, горячий и тугой. Глаза застилала влажная пелена. Я сглотнул, пытаясь протолкнуть эту слабость обратно, внутрь, в ту клетку, где она и должна была оставаться. Но сейчас… сейчас она не слушалась. Слишком много было всего. Слишком ярко. Слишком реально.
Я отодвинулся от стены, чувствуя, как по телу растекается странная, тревожная энергия — смесь адреналина, стыда, ярости и какого-то нового, незнакомого чувства… ответственности? Не перед абстрактным долгом или идеей, а перед живыми людьми. Страх ушел. Осталась только реальность. Жестокая, неумолимая и требующая действий. Действий, от которых теперь зависел не только я.
— Не называй меня так больше, не зови меня Реджи, — наконец выдавил я, и мой голос, сорвавшийся на хриплый шепот. — Ты потерял право называть меня так, когда перестал хотеть быть моим старшим братом.
Я перевел взгляд на медальон, все еще зажатый в его пальцах. Он был не просто куском металла. Он был символом. Символом той тьмы, что угрожала нам всем. И того выбора, что стоял теперь перед нами.
— И ты не «потерял» нас, Сириус. Ты сам от нас отказался. Теперь же... теперь у нас есть это. — Я кивнул в сторону зловещего золотого диска. — И тот, кто его создал, уже знает. Он, вероятно, уже почувствовал вторжение. Он знает о предательстве. И он придет. Не за тобой и не за мной. За нами. И твои детские просьбы об обещаниях ничего не изменят... Но все же, прости...
Я медленно встал и выпрямился во весь рост, отбрасывая тень на стену. Мокрая одежда все еще тяготила, но теперь ее вес ощущался иначе — не как саван, а как доспехи. Касаться брата было странно до мурашек, но я отбросил эту мысль и сжал длинными пальцами его плечо, стараясь хотя бы так поддержать в нем силы двигаться дальше.
— Так что хватит уподобляться ребенку, который просит не уходить на войну. Война уже здесь. И мы оба, хотим того или нет, находимся на ее передовой.
Я смотрел на него, и в моем взгляде не было ни прежнего обожания, ни прежней обиды. Был лишь спокойный, заметно оттаявший лед, а годы одиночества и отчаяния не стирались, но брешь разрасталась с завидной скоростью, теперь же весь негатив был направлен вовне — на общего врага.
— Вопрос не в том, чтобы давать пустые обещания. Вопрос в том, что мы будем делать дальше.
И впервые за долгие годы я не чувствовал себя одиноким в своем решении. Пусть мой союзник был непредсказуем, зол и раним. Но он был. И это мой брат.
[icon]https://storage.yandexcloud.net/fotora.ru/uploads/aef3105be18efef9.png[/icon]
Отредактировано Regulus Black (2025-10-11 09:43:02)